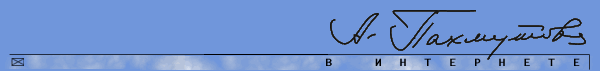Лиана Соломоновна Генина — выпускница ЦМШ, впоследствии Московской консерватории. Известный российский музыковед, на протяжении многих лет заместитель главного редактора журнала «Музыкальная академия» (в советские годы — «Советская музыка»).
ВАРИАЦИЯ ПЕРВАЯ
 Игорь Семенович Безродный учился в том достославном классе, о котором и ныне, верно, хранит воспоминания добрая память ЦМШ.
Игорь Семенович Безродный учился в том достославном классе, о котором и ныне, верно, хранит воспоминания добрая память ЦМШ.
Странный был класс. Горячий и нервный какой-то. Дня не проходило без эмоциональных вспышек, бурного выяснения отношений, а подчас и курьезных эксцессов. Один мальчик перед экзаменом в шестом классе по музлитературе убежденно говорил:
— Всё, чуваи1, выучил только оперную реформу Глюка. Остальное ни гу-гу. Но уж Глюк — будьте покойны!
Он вытащил билет с Глюком и получил… двойку.
— Нет, я сегодня точно сдохну, — с надрывом восклицал другой мальчик, всем своим мученическим видом показывая, что нельзя же задавать людям столько уроков — на целых полчаса домашней работы. Третий принес в школу запрещённых тогда «Двенадцать стульев» и «Золотого телёнка», и наиболее любознательные, двигая книги сквозь тоненькую прорезь в парте и давясь от смеха, читали их.
Не лучше были и представительницы прекрасной половины человечества. Одна из них умудрилась две недели прогулять школу: на Арбате, в кинотеатре «Арс», шел фильм «Леди Гамильтон» с Лоуренсом Оливье и Вивьен Ли…
Вообще, в классе, за редчайшими исключениями, всегда стоял гул: кто-то, раскрыв ноты и даже иногда тихонько напевая, отрабатывал на парте аппликатуру; кто-то, глядя в маленькое зеркальце, скептически комментировал самолично подрезанную вчера челку; кто-то готовил заданное к следующему уроку и, перегнувшись в пролет между партами, спрашивал более сведущего в точных науках, чему тут равняется «икс»…
Случались массовые «протестные акции». Так, предстояла контрольная по физике, которую все, и не без оснований, боялись. А назавтра — очередной отчетный вечер, где большинство должно было играть. В школе плохо топили, и завзятые наши вожаки категорически заявили, что в такой холодрыге мы руки из карманов не вынем.
В другой раз был сорван урок по литературе. Вел ее обычно наш классный руководитель Дмитрий Иванович Сухопрудский. Представлявшийся нам безнадежно глубоким старцем, с резкими носогубными морщинами и глазами цвета поздних васильков на словно бы несколько вогнутом лице; с тихим голосом, больной ногой и, следовательно, с палкой; с портфелем, узким ремнем перекинутым через плечо и шею поперек груди, — этот худощавый и вовсе «неавантажный» человек умел добиваться на своих уроках мертвой тишины. Он, собственно, не добивался — так получалось. Ибо рассказывал он нам о книгах и людях, коих школьникам тех лет знать как бы не полагалось: о Достоевском и Саше Черном, о Надсоне и Блоке… Жил он далеко, на Тихвинской улице, в деревянном доме без телефона, и ездить каждый день в Собиновский переулок сперва на трамвае, потом на метро, а потом еще на троллейбусе № 5 от Охотного ряда (зимой) или идти пешком от Арбата (летом) ему было невероятно трудно. Однако ни утомления, ни какого-либо раздражения проявлять себе не позволял. Если происходила в классе некая «оказия», он только несколько раз помахивал правой ладонью и тихо говорил:
— Ну что это, право?
И мы — замолкали. Я (и не только я) часто ездила к нему домой — поговорить «про жизнь» и, главное, взять книги. Он охотно давал их; так открывалось дыхание интонации Аннинского и Ахматовой, Цветаевой и Пастернака, которых трудно было добыть даже в богатых букинистических магазинах той поры…
Однажды, когда наш классный руководитель заболел, заботливая дирекция прислала нам некоего Эвереста Ивановича — возможно, тоже очень хорошего педагога. Но как это — вместо Дмитрия Ивановича какой-то Эверест?! Не помню, кто тихо скомандовал:
— Чуваи, а ну «h-moll'ную мессу»! Живо!
Мы быстро распределили «партии», и буквально через несколько секунд в классе негромко загудело h-moll'ное трезвучие. Этого опешивший Эверест постичь не мог и минут через 15, схватив журнал, бросился в учительскую. В общем-то, нам его было жалко — не знал, бедный, с кем связался. Но не сдаваться же!..
Словом, недаром наш класс — вероятно, единственный в истории не только ЦМШ, но и вообще отечественных учебных заведений, — был исключен из школы. «Свободные», мы были счастливы. Дней пять. Потом почувствовали смертную тоску. Венцом всего спектакля стал апофеоз в школьном зале: выстроенные как на пионерской линейке, мы смиренно выслушивали написанную заранее «клятву» — раскаяние, которую произносил от имени класса Г.Черкасов. Что ж, нас отпустили доучиваться дальше…
Этот апофеоз мы «отыграли» на выпускном вечере-капустнике, исполнив для начала со сцены того же зала гимн СССР. Растерянные наши, святые наши педагоги поднялись и все куплеты, как положено, выслушали стоя. После капустника и крайне незатейливого ужина в темных классах жарко целовались. Потом, как водится, гуляли ночной Москвой. Чувства прощания с классом не было: осенью, за малым исключением, все встретились снова — уже студентами консерватории. А вот со школой — …
ВАРИАЦИЯ ВТОРАЯ
Сегодня, спустя жизнь, задаешься вопросом: как это из такого сборища оболтусов выросли музыканты, чье искусство (или деятельность в области искусства) приумножило достоинство, а в лучших своих деяниях и славу нашей художественной культуры? Вот лишь некоторые имена: Д.Благой и И.Безродный, Н.Каретников и Е.Малинин, Р.Леденёв и А.Пахмутова, Э.Грач и Р.Соболевский, Л.Берман и Л.Корабельникова, Н.Бейлина, Дм. Шебалин, Х.Ахтямова и А.Гинзбург…
Так вот, как они выросли музыкантами — это вообще не вопрос. Все названные и некоторые неназванные мной одноклассники музыкантами родились (это ведь солдатами не рождаются…). В пять или шесть лет, когда их приводили на прослушивание в «нулевку» и они демонстрировали не только отличный слух, чувство ритма, игру на инструменте, но — часто — и уменье сочинять, это были уже маленькие личности. Тут впору подчеркнуть: эпоха легендарных ЦМШ'овских мам прошла; эпоха соревнования отцовских возможностей была далеко впереди. В школу одаренных детей (так она, собственно, при своем учредительстве называлась) брали одаренных детей — вот главный «секрет» нашего класса. Почти все были из семей бедных: зимой ходили (и танцевали!) в валенках. Летом редко у кого были шелковые платья; одевались в то, что сумели скроить, сшить или связать домашние взрослые. И никто не испытывал никаких комплексов по этому поводу.
Комплексы были совсем другие. И первый среди них — неутолимая тяга к «вольности святой». То есть желание заниматься только тем, чем хочется, прежде всего — самой музыкой. Все, что мешало этому, воспринималось как посягательство на изъявление свободного духа. Восприятие это не только принимало подчас демонстративно-неучтивые (мягко говоря) формы, но было отчасти и лукаво-лицемерным. Ибо — боже, сколько же тратилось драгоценного времени на «философические» споры, шатанье по улицам и проч. Да! Но все-таки…
Все-таки жизнь класса складывалась далеко не только из тех неучтивых форм, о которых я (далеко не обо всех!) рассказала. Главным было другое. Прежде всего, конечно, специальность. Тут впечатлений такое множество, что никаких страниц не хватит. Скажу поэтому только о двух. Лялик Берман на переменках играл все этюды Шопена во всех тональностях, причем быстрые — в темпе безумного presto, не умалявшего изящной шопеновской выразительности. А еще раньше в том, старом здании в Среднекисловском переулке, на площадке запасной железной лестницы второго этажа (заповедном месте всяческих объяснений) можно было услышать, как, готовясь к уроку у профессора, кто-нибудь из скрипачей играл Концерт Мендельсона или Рондо-каприччиозо Сен-Санса. И, кажется, сердце обдавало ожогом — так они играли. Существовал еще и камерный класс — и замечательно, что существовал; не забыть наших с Ниной Бейлиной репетиций Второй Сонаты Брамса…
Но и помимо основного, много было в классе примечательного. Примерно каждый третий писал музыку или стихи, а иные — и то и другое. Подчас в стихах писалось сочинение, причем — какова дерзость! — даже если сам объект сочинения — шедевр в стихотворной форме (например, «Горе от ума»). И споры велись философические отнюдь не всегда в кавычках. И Коля Каретников приносил в школу не только Ильфа и Петрова, но и другие книги, которых иначе было не достать. Ну — и так далее, и так далее, и так далее…
(Вот написала эту фразу и вспомнила: наш географ Михаил Платонович этим «и так далее» сопровождал чуть не каждую фразу. Необыкновенно воспитанный, благородный и сдержанный Рома Леденёв на специальном листке каждый раз отмечал палочкой сию магическую формулу. М.П. прекрасно это понимал, подходил к парте и, положив свою руку на листок, говорил:
Ну, будет, Леденёу, Леденёу, Леденёу — такой у него был выговор — и так далее, и так далее, и так далее…)
Таким образом, несмотря на все безобразия, в классе царил неистребимый дух творчества, если угодно — нечто лицеистское. Редчайший случай — когда судьба сводит вместе яркие и разные индивидуальности. Среди них были и увлекающиеся астрономией, и тяготеющие к медицине, и знающие минералогию, и разбирающиеся в политэкономии. Были и серьезные знатоки античности и средневековья; некоторые же свободно владели иностранными языками.
Немало способствовало сказанному то обстоятельство, что мы учились по особой программе и, я бы сказала, в особом режиме. К примеру, не было никаких грозных записей в дневниках (а ведь заслуживали!), тем более — казуистических вызовов родителей в школу. Мне, прогулявшей две недели ради «Леди Гамильтон», упомянутый уже классный руководитель попенял мягко, на том дело и кончилось.
В общем, педагоги любили нас, а мы любили их, и оба «лагеря» это понимали. Я уж не говорю о педагогах по специальным дисциплинам — с ними были вообще особые отношения. И никакой «вольности», естественно.
ВАРИАЦИЯ ТРЕТЬЯ
Тем не менее, уязвимые стороны в нашем обучении были. И очень серьезные. Первая состояла в том, что мы существовали и учились практически вне современной музыки. Конечно, все знали Пятую и Седьмую симфонии Д.Шостаковича, Скрипичный концерт А.Хачатуряна, «Ромео и Джульетту» и некоторые фортепианные произведения С.Прокофьева, прелюдии Д.Кабалевского и еще несколько широкоизвестных произведений. Но все же сколько-нибудь сущностные процессы, происходившие тогда в советской, а тем более западной (да и восточной) музыке, в курсы музлитературы просто не входили. И в этом смысле мы вышли из ЦМШ (почти все) необразованными людьми.
Вторая причина заключается в том, что нас очень оберегали от идеологии. Разумеется, мы «проходили» какую-то (русскую?) историю. Но и только. Казалось бы, прекрасно — можно ли желать лучшего для юных музыкантов? Ведь рассказывать о том, что в действительности происходило в стране, педагоги все равно не могли, а может быть, и сами не все знали. Бесспорно. Однако обе эти стороны, неотрывно связанные друг с другом, стали причиной того, что мы оказались совершенно неготовыми к тому, что нас ожидало, и очень скоро.
…С первого появления в школе Али Пахмутовой в 43-м году (после эвакуации) у нас завязалась дружба. Два же дня, можно сказать, породнили нас. Один — самый счастливый — 9 мая 1945 года, который мы провели с шести утра до глубокой ночи на улицах Москвы. И другой — один из самых страшных, когда, сбежав с уроков, мы, уже десятиклассницы, прошмыгнули в Большой зал консерватории на собрание, где шло обсуждение постановления ЦК партии об опере В.Мурадели. Мы близко видели — впервые в жизни — знаменитых композиторов; мы слышали, что говорят со сцены и… ничего не понимали. Ну, абсолютно! Красивый студент с бархатными глазами сурово выговаривал сидящему в первом ряду профессору за то, что тот его все годы «неправильно» учил в консерватории — той самой, куда нам предстояло через полгода сдавать вступительные экзамены…
Ближайшие дни в классе стояла тишина. Никто ничего не обсуждал. Потому что никто ничего не понимал. Разве что не знавший реформы Глюка Митя Шебалин — как хорошо известно, его отца сняли с поста ректора консерватории. Психологический «сбой» был очень сильным для всех.
Еще большую неготовность испытали мы, столкнувшись, уже в вузе, с так называемыми общественными науками. Даже ребята, всерьез интересовавшиеся ими (в том числе и я), впали в полное обалдение от того стиля и метода, при помощи которых на нас посыпались три составные части, шесть сторон, десять ударов и т.д. Неудивительно: все это преподносили неумные ортодоксы. О. Гонтаренко и зав. соответствующей кафедрой К.Трошин, который в афишках собственных лекций именовал себя «и. о. доктора филосовских наук» (sic!). Вот этот «и. о». был человеком, замечательно талантливо не владевшим родным языком. Услышав, что «марксистская наука зародилась непосредственно в недрах у Маркса и у Енгельса» (sic!), или что «эпоха создания „Анти-Дюринга“ (это 1877 год! — Л.Г). сопровождалась упадком русского симфонизма», или что «Мильеран обоими руками встал на путь предательства…», или что «народившись в 1812-х годах, Герцен все время шел вперед и остановился только перед историческим материализмом», мы навострили уши и немедленно завели дневник: не пропадать же таким перлам! Подобные лекции проводились на так называемых потоках: в большой аудитории № 21 на третьем этаже собирался весь первый курс, даже безумно далекие от каких-либо составных частей вокалисты. Само собой, глупо было бы всем ходить на все потоки, поэтому каждый раз отряжались дежурные, которые и фиксировали перлы.
На семинарских занятиях, которые шли пофакультетно (но, увы, не факультативно), применялись иные методы. Тут надо сказать: с курсом нам тоже повезло. Наше классное сообщество обогатили такие яркие и сильные личности, как фронтовики А.Эшпай, М.Ройтерштейн, Г.Крауклис, С.Стемпневский, как талантливейшие А.Лахути, М.Тараканов и некоторые другие ребята, пришедшие из Гнесинки или из Мерзляковского училища или приехавшие из других городов. Среди прочих был и молодой композитор из Волгограда, также прошедший войну, В.Семенов — человек неглупый и с чувством юмора, но с несколько простецким лицом. И вот, когда, казалось, крах неизбежен, ибо кто-то же неотвратимо должен был выступить на семинаре Гонтаренко (а учиться у нее было немыслимо — нечему!), мы тихонько умоляли:
— Вить, а Вить, ну спроси у нее что-нибудь!
Семенов поднимал руку вставал и приторно-вежливым голосом спрашивал, разыгрывая из себя уж полного провинциала:
— Ольга Алексеевна, а что такое, к примеру, социализм?
Аудитория облегченно вздыхала: счастливая «марксистка» пускалась в жутко путаные объяснения до самого звонка.
Были, конечно, на кафедре общественных наук консерватории и по-своему даже привлекательные преподаватели, но общей картины это не меняло. Сопоставление «общекафедралов» с «царской ложей» педагогов по специальности нельзя назвать даже контрастом. Там сияли созвездия: Нейгауз, Игумнов, Гольденвейзер, Софроницкий, Оборин, Файнберг, Флиер, Ойстрах, А.Ямпольский, Цейтлин, Янкелевич, Борисовский, А.Хачатурян, Ан. Александров, Шебалин, Шапорин, Долуханова, Мигай, Доливо, Цуккерман, Способин, Васина-Гроссман, Беляев, Богатырев, Фортунатов, Берков, Регент-ректор, всея консерватории Свешников… — всех, к счастью, невозможно перечислить. А здесь? В общем, вы сами понимаете, как говорится в одной назойливой телерекламе. И так продолжалось до тех пор, пока не появился в «консе», молодой, умный, шумно-смешной и обаятельно-общительный, недавний фронтовик, действительно знаток философии и эстетики Виктор Константинович Скатерщиков. Но дальше начинается уже совсем другая история…
ТЕМА
Как известно, обычно тема после вариаций либо постепенно прорастает сквозь тематическую ткань отдельными прединтонациями, либо возникает как результат резкого сшиба — контраста — словно поднимается из морской пучины сонорности тонально ясная «Афродита» (иногда народно-песенного склада). Можно попытаться частично соединить эти принципы, если позволяет фигура «героя». Фигура Игоря — Лолика Безродного — позволяет.2
Описывая атмосферу нашего класса, я нигде не упоминаю Безродного. Может возникнуть вопрос: да был ли он там вообще? Еще как был! Участвовал в дурацких или остроумных выходках, травил анекдоты, любил хохмить и смеялся хохмам других. Но… никогда Лолик не выступал застрельщиком, зачинщиком, заводилой розыгрышей, оратором на «протестных акциях» и т.д. Он был персонажем «массовки», он был, «как все». Что это означало — скрытость, замкнутость характера, может быть, трусость? О нет. Просто надо иначе поставить вопросы.
Безродный не прошел одесской «королевской детской академии музыки», которую прошли Мила Корабельникова или Эдик Грач — тот самый, который намеревался «сдохнуть» по случаю непомерных домашних заданий (реплика, немыслимая в устах Лолика). По разным причинам многие из нас были в известном смысле «одесситами». А вот его натура, его нервная организация не поддавалась немотивированным вспышкам эмоций. Медики называют такое качество сохранностью личности. Воистину Безродный бес— или подсознательно сохранял (охранял) свою личность, и именно этим он (как, кстати, и Леденёв или Гинзбург) выделялся на фоне нашей массовки. Такому внутреннему строю удивительно соответствовала и внешность Лолика. Довольно крупный, что называется крепко сбитый, в кургузом пиджачке с коротковатыми рукавами и широким хлястиком на спине (почти все наши мальчики вырастали быстрее, чем им успевали сшить или купить новые костюмы), с добродушным курносым лицом и спокойными глазами, он напоминал молодого рачительного сельского сквайра. По чисто поверхностному впечатлению ему было далеко до наших красавчиков — от жгучего блондина Малинина до жгучего брюнета Грача. Но была в этой фигуре, в ее стати и повадках своя притягательная сила — сила прочности, надежности, основательности намерений и редкой целенаправленности в их осуществлении. И если Лолик не «солировал» в наших повседневных «баталиях», то, думается, по одной причине: его духовное устройство, его скрипичная семейная традиция — все побуждало к сосредоточенности на главном — своей скрипке. Иначе говоря, превыше всего он ценил самое ценное — свое молодое время и в этом смысле был с самого начала человеком дела.
 Недаром, недаром Безродный любил север — Эстонию, Финляндию; недаром в детстве плакал, слушая Сибелиуса. При всей условности подобных определений ему и в самом деле были близки тонкие краски неброского колорита, собранный нрав людей Балтики, сдержанность их нервных реакций, неохочесть до «чужих воздействий», словом то, что поляки обозначают понятием «неподлеглость». И одновременно сам он неизменно отличался теплым, приятельским доброжелательством к людям…
Недаром, недаром Безродный любил север — Эстонию, Финляндию; недаром в детстве плакал, слушая Сибелиуса. При всей условности подобных определений ему и в самом деле были близки тонкие краски неброского колорита, собранный нрав людей Балтики, сдержанность их нервных реакций, неохочесть до «чужих воздействий», словом то, что поляки обозначают понятием «неподлеглость». И одновременно сам он неизменно отличался теплым, приятельским доброжелательством к людям…
В документальном телефильме о том, как снимались «Семнадцать мгновений весны», режиссер Т.Лиознова рассказывает о трудностях нахождения артиста на главную роль. Оговаривая, что подходящих претендентов было немало, она объясняет выбор В.Тихонова так: он обладал только одним преимуществом — абсолютно свободно держался перед камерой. Вот, мне кажется, что-то в этом роде — абсолютная уверенность, свобода общения с аудиторией — и побудили уж не знаю какое начальство послать 17-летнего школьника на Международный конкурс в Прагу. Надо представить себе 1947 год, первый конкурс после страшной войны (это сейчас конкурсы стали чем-то вроде заседаний худсоветов). Мало того, Безродный получает еще две первые премии на двух последующих конкурсах! Как сказали бы спортсмены, такой рекорд, по крайней мере, в нашей стране, никто не только не превзошел, но и не повторил. А ведь были среди наших ребят скрипачи с талантом не менее, а в чем-то, возможно, и более сильным, — тот же Грач, например, ближайший друг Безродного и собрат по классу Абрама Ильича. Спустя время (одни — совсем короткое, другие — годы) они получили свои премии, реализовали свое призвание, обрели свою публику. Но — спустя время, то есть тот самый фактор, который сыграл колоссальную роль в столь поразительном артистическом старте Безродного. Характерно, что в своих воспоминаниях он ярко живописует ужас волнения перед выходом на сцену в качестве дирижера (дебют в этой сфере называет «идиотским случаем»), но ни слова не говорит о волнении скрипача-солиста или ансамблиста. Волновался ли он в действительности? В упомянутом уже телефильме дочь сценариста «Мгновений», Ю.Семенова, рассказывает, что когда отец спросил Тихонова, о чем он думал в долгих эпизодах крупного плана без текста, тот ответил: «Вспоминал таблицу умножения». Апокриф это или нет, несущественно. Существен результат — та самая абсолютная свобода, которая дается только опытом, то есть многолетним каторжным трудом. А ведь выходящий на сцену музыкант — тоже актер…
Был ли Безродный скромным человеком? Бесспорно, и даже очень. Он никогда не устраивал шумихи вокруг себя. Поводы же были, и какие поводы! Три первые премии кряду. Государственная премия студенту, возможность в 20 с небольшим лет объездить полмира, причем во многих странах побывать первым из советских скрипачей. Словом, как тогда имели обыкновение говорить, нес культуру в массы, был полпредом нашего искусства за рубежом. А зная тогдашние порядки, можно не сомневаться: в течение примерно 40-летней артистической деятельности приумножал Безродный не только славу своей страны, но и ее национальный бюджет… Между тем проходило все это как-то тихо, чуть ли не незаметно: никаких развернутых интервью прессе, никаких сильных, запоминающихся творческих портретов. Даже в музыкальных подборках зарубежной печати (уж там-то следили за гастролями из СССР) сведения о Безродном переводились у нас фрагментарно, как бы между прочим.
За некоторыми исключениями, чтобы о тебе писали, говорили, а потом и помнили, надо было прилагать немалые усилия, а вот этого, похоже, Безродный делать и не хотел, и не умел. Энтузиастов же вроде Л.Филатова (телецикл его передач так и называется: «Чтобы помнили…») в музыкальном мире что-то не видно…
Вопреки «беспамятному будущему», жизнь Безродного складывалась вполне благополучно: он женился на одной из самых красивых девушек консерватории (и опять как-то незаметно на фоне громких студенческих романов). Переехал в квартиру в престижной высотке на площади Восстания, обзавелся машиной, стал профессором, а со временем осуществил и свою давнюю мечту о дирижировании. И главное, он играл, играл, играл — репертуар поистине необъятный. Теперь он уже не напоминал сельского сквайра: и внешне, и по сути это был Артист, чьей концертной площадкой с годами становился, кажется, весь мир.
Как же он играл? Вот вопрос, ответа на который, пожалуй, нигде не найти. Сразу скажу: нет этого ответа и у меня. Во-первых, жанр данных заметок — что угодно, но только не исследовательский трактат. Во-вторых, я не инструменталистка. И каких-то специфических вещей могла просто не уловить в свое время. В свое время, то есть давно — и это, в-третьих, — ибо последних лет 20 Безродный концертов в Москве не давал. И, следовательно, соображения мои носят характер скорее общемузыкальных впечатлений. Все-таки попробую хоть кратко эти соображения высказать.
Скажу вначале, как Безродный не играл, чего у него не было.
Как и в жизни, он не любил чрезмерностей, преувеличений, не стремился к олимпийскому девизу — выше, дальше, быстрее. Фигурально выражаясь, он не рвал струн в Поэме Шоссона, или в Полонезе Венявского, или в «Цыганке» Равеля. Чего не было, того не было. А что же было?
«Скрипка — инструмент аристократический», — говорит Безродный. Вот это и было: аристократизм, благородство, редкая для молодого музыканта, «смычку волшебному послушна», стилистически тончайше выверенная естественная интонация. Казалось, он играл просто — ну что особенного, вышел человек на эстраду и исполнил Концерт Чайковского. Кто этого сегодня не умеет? Так, как Безродный, — не знаю, кто. Он был из тех музыкантов, что создают эталоны, образцы интерпретаций. Конечно, не обязательные для всех — такого в искусстве вообще быть не может. Вот и в Чайковском… Но, характеризуя интерпретацию, ловишь себя на том, что характеризуешь, в сущности самое музыку. Безродный придумал? Так ведь Петр Ильич сочинил. Вот в этом-то и все дело — сыграть, как задумано и создано композитором (если, конечно, не стоят какие-то специальные, скажем, импровизационные задачи), вероятно, трудней всего. Очень уж хочется и себя показать — как здорово ты умеешь выше, дальше, быстрее других.
Однако в чем же тогда сказывается индивидуальность? Да во всем. Взять хоть такой частный, казалось бы, прием, как rubato. В сущности, это ведь мини-модель и времени, и пространства в музыке. И вот, думается мне, rubato у Безродного в Чайковском было всюду безукоризненным, а следовательно, всюду разным. Одно — изящная графическая виньетка в конце повторения первого же мотива главной партии; другое — в интонировании почти тождественных оборотов в разработочных разделах; еще иное — в трелеобразном островке посреди «темы-реки» второй части; и опять новое — в финале, в частности, в постепенном вовлечении инструментов в «хоровод» в эпизодах… Да мало ли еще где у Чайковского с его тяготением к секвенциям, опеваниям, задержаниям! Строго говоря, не везде (у Безродного, во всяком случае) данный выразительный прием можно назвать rubato: где-то он расширялся, раздвигался, на несколько тактов превращался в подобие ritenuto; где-то, напротив, едва заметно сжимался до пружинистого пространства между двумя звуками, внося в разработочные секвенционные обороты магическое «почти».
Или другой пример: первая часть Концерта Брамса, знаменитое трехступенное восхождение к неустойчивой вершине, после которой в партии солиста стремительно ниспадающий каскад. Какой здесь соблазн для скрипача — с надрывом «рвануть» две первые попытки взять высоту (словно дыхания не хватает), а затем эффектно придержать паузу перед верхним «соль», уснастив его гипер-вибрацией! Безродный не позволял себе поддаваться подобным соблазнам.
Или вспомним у него Моцарта. Сколько опять соблазнов, но уже другого свойства: играть Моцарта милым слуху, но все же анемичным, приглушенным quasi-старинным звуком. Безродный (скорей всего, естественно, чутьем своим) представлял Моцарта по-пушкински: не только какая стройность, но и какая смелость! Конечно, это был совсем другой тембр — не брамсовский, не чайковский, не сибелиусовский… — но это был тембр. Яркий, полнокровный во всех регистрах, а в трагических кульминациях — «до полной гибели всерьез».
Вообще, к кульминациям он (как, впрочем, любой серьезный артист) относился с особой — как бы сказать? — режиссерской тщательностью, что ли. Он словно берег до поры «крайние» звуковые, выразительные, виртуозные и прочие возможности сольной партии, а там уж раскрывался полностью, по принципу «я долго страсть скрывал». Разумеется, это требовало кровного соучастия не аккомпанирующего, но единым дыханием движимого оркестра. И большей частью такое единое дыхание достигалось, выступал ли он со знаменитыми мастерами или с только начинающими свой творческий путь подмастерьями — нашими и зарубежными.
Мы часто, желая похвалить исполнителя, говорим, что он точно выстраивает форму целого, безошибочно воссоздает общий драматургический контур сочинения. На самом деле такое случается не так уж часто, ибо требует поистине мастерской спаянности всех его пластов, начиная с главного — интонационного строя. И без идеального чувства меры, соразмерности здесь не обойтись. Не знаю, какими каратами измеряется это золотое качество — чувство меры. Талантом, выучкой: «Ну, голова нужна!» — чуть ли не в отчаянии восклицает сам Безродный, пересказывая разговор с нерадивым студентом. Все это у него было: и сверкающий талант, и выучка прославленной школы Ямпольского, и ясная, строгая голова.
Чтобы не воспитывать «чемпионов мира по борьбе» с Бетховеном, Безродный (не забывший, как долго Абрам Ильич не давал ему самому, трижды первому лауреату, играть Концерт Бетховена и спрашивал учеников: а ты знаешь, зачем ты вообще играешь? И сам, всей собственной артистической жизнью пытался давать — и давал — ответ на заданный вопрос. Именно поэтому, думается мне, исполнительский стиль (а следовательно, и педагогические принципы) Игоря Безродного можно назвать классическим — подразумевая адекватность трактовки артиста — сколь угодно свободной, но все же адекватной — замыслу композитора. И потому он был достойным представителем не только школы Ямпольского, но и отечественной скрипичной школы, периода ее расцвета вообще. Так, в сдержанно-благородном, академическом (в высшем понимании этого слова) звучании, в тонких, тончайших, но никогда не запредельных либо режущих слух штрихах его смычка слышатся и некие традиции Д.Ойстраха; если же выйти за «скрипичные рамки», то в иных программах, особенно сольных и особенно баховских, — и пожалуй даже Д.Шафрана. А в неутолимой жажде сыграть все, попробовать все доступные своему дарованию профили профессии — воздействие М.Ростроповича.
Вот таким помнится мне мой одноклассник, однокурсник, одноаспирантник. Особой личной дружбы между нами не было. Но без него атмосфера самой памятной и остро-впечатлительной поры жизни, детства и юности, была бы в чем-то беднее. Не говоря уж об исключительно насыщенной артистической атмосфере времени в целом.
CODA
«Не говори с тоской: их нет, но с благодарностью: были», — эту мудрую, врачующую и к тому же столь пленительно-поэтическую мысль Баратынского цитируют очень часто. Но все же не совсем она верна. Оно, конечно, хорошо бы так, но — не выходит. Не получается. Благодарность — благодарностью, а тоска — тоской.
Каждые пять лет собирается наш класс. Где придется: раньше — в ЦДРИ или в ресторане Дома композиторов, или в другом кабачке; сейчас все больше у кого-нибудь на квартире. Все стремятся, если возможно, передвинуть гастрольные поездки или отпуска, или командировки, приехать из других городов, даже стран (Берман, например, из Италии, где теперь живет). Стиль наших встреч не меняется, но и — странным образом — не приедается. Во-первых, нет никаких народных, заслуженных, докторов наук, лауреатов и проч.; есть Милка, Ленка, Алька, Халидка, Петька, Бобка, Славка и все остальные (ах, если б все…). Во-вторых, следуют ритуальное перечитывание общеклассного дневника (был у нас такой) и других «исторических документов» минувших эпох, а также рассматривание фотографий: раньше детей, а ныне внуков. В-третьих, Митя Шебалин обычно приносит «девчонкам» цветы. В-четвертых, Тоник Гинзбург снимает кинокамерой все происходящее… Но сначала… Сначала мы встаем, и кто-нибудь произносит первый тост. Не чокаясь.
Лолика мы не видели очень давно, с конца 70-х годов. Мы знали о нем немного больше того, что он сам рассказал. Знали, что какое-то время он неустроенно жил за городом, и в Москву приезжал только на консерваторские занятия. В концертных залах его не видели: у него были серьезные проблемы с больным сердцем. Он был членом редколлегии нашего журнала, но, при всей своей обязательности, постепенно перестал откликаться на посылаемый ему материал. (Хотя до этого не один год внимательно вникал во все проблемы исполнительского отдела). Его телефона никто не знал. Да и был ли там, за городом, телефон? Потом прошел слух: Лолик преподает и в Таллине. Это оказалось правдой, он даже вторично женился там. Потом к Эстонии добавилась Финляндия. А потом — потом 30 сентября 1997 года Игорь Безродный умер.
Такова внешняя канва событий. Что до внутренней, то, думается мне, в какие-то годы (точнее сказать не могу) он, что называется, сломался. Отчасти, по крайней мере. Может быть, кто-то перестал понимать его, его неизменный благородный академизм; время на дворе установилось с резкой «авангардной» ориентацией, к которой тяготела молодежь; он же и из современной музыки играл то, что соответствовало представлению об аристократичности скрипки. Может быть, что-то перестал понимать он: индустриально-поточную конкурсную пандемию, право всерьез учиться и лечиться — за деньги, готовность обменять талант в «хрущевке» на особняк с охранником. «Непонимание — канцерогенно», — сказал поэт. Добавлю: оно, на беду, в конечном счете, почти всегда взаимно. И особо болезненно между руководителем и художественным коллективом (такое, похоже, существовало между Безродным и его «московским оркестром»).
Может быть, напротив, он что-то понял. Например, что Три Дня Августа так и ушли в историю тремя днями августа. Дальше нужно было иметь силы, которых у поколения Безродного оставалось не так уж много. И наступал другой инфаркт, не объект кардиологии, — инфаркт души. Возможно, поэтому он избегал всяческого (ну почти, наверное) общения — даже с классом, в котором вырос. И покинул свою страну, свою консерваторию (правда, не совсем, не окончательно), и уехал в с детства любимую Балтику. Впрочем, это случилось еще раньше, и не исключено, что его новая жизнь была бы долгой и счастливой. Только жить ему оставалось почти-что всего ничего…
Последний раз класс собирался 5 мая 2000-го. Вечер был, как всегда; сначала все встали, затем кто-то сказал:
Ребята, давайте помянем Лолика…
1В ходу были «чуваки» и «чувихи». Чуваями же называлось все сообщество.
2Когда он был совсем маленьким, родители увлеклись Прокофьевым и, следуя названию одной из партитур композитора, дали своему сыну «прозвище» Лолий, а его двоюродной сестренке — Алла).